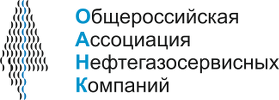«Считаем себя великими, а экономику имеем 3% от мировой»
 Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан — о том, почему россияне чаще всего работают водителями и охранниками
Декан экономического факультета МГУ Александр Аузан — о том, почему россияне чаще всего работают водителями и охранниками
В октябре 2017 года Александр Аузан написал вступительное слово к исследованию транснациональной консалтинговой компании Boston Consulting Group. Исследователи пришли к выводу, что более 80% трудоспособного населения России не имеют навыков и компетенций для работы на современных рынках, а в самой стране отсутствует спрос на знания. Эксперты BCG выяснили, что чаще всего граждане РФ работают водителями (7,1%), продавцами (6,8%) и охранниками (1,9%). Высококвалифицированным трудом, относящимся к категории «знание» (интеллектуальная работа, творческие и нерутинные задачи), заняты только 17% населения. Это в 1,5 раза меньше, чем в Японии или США, в 1,7 раза меньше, чем в Германии; вдвое ниже показателя Сингапура и в 2,6 раза — Великобритании. Система российского высшего образования явно не справляется с задачей: получение «корочки» вуза превратилось в пустой социальный ритуал, цель которого — «пропуск» в общество либо отсрочка от армии; образование не способствует карьере, не составляет основу социального успеха, образованность подменяется дипломированностью, а профессионализм — умением устроиться и приспособиться. В результате 91% российских работодателей считает, что у выпускников недостаточно практических навыков, а 83% воспринимают уровень подготовки в вузах как средний или низкий. Доклад BCG вызвал широкое обсуждение. В адрес участников исследования было выдвинуто немало обвинений в «нагнетании» и даже «чрезмерном пессимизме». Как рассказали мне работники экономического факультета, особо отчаянные грозились даже приехать в МГУ и «поговорить с нагнетателями». В интервью «Новой» профессор Аузан, член Экономического Совета при президенте РФ, констатировал, что доклад отражает реальную ситуацию в российской экономике. Объяснил, как ее изменить, и рассказал, почему для экономики важны даже безальтернативные выборы.
— Бизнес жалуется на драматическую нехватку профессионалов. На отсутствие у людей компетенций для работы на современных рынках, на низкую академическую подготовку, нежелание обучаться и выходить из зоны комфорта. В докладе BСG эта ситуация называется отсутствием «ценностей роста». Кто-то формулирует еще проще — «рашн бизнес». Российские специалисты не имеют компетенций за пределами областей, требующих физических навыков или исполнения надзорных функций. Выходит, что у нас полная катастрофа с высшим образованием?
— Образование у нас очень, я бы сказал, разнообразно. Мы, например, исследовали ситуацию с нашими выпускниками в плане их трудоустройства. И у работодателей нет никаких претензий. Надо также понимать, что очень многих людей мы теряем, потому что они уезжают [за границу]. И там у них все неплохо с работой и компетенциями. Но да, есть и огромная масса примеров, когда, выпускаясь из вузов, люди не имеют необходимых для сегодняшнего рынка компетенций. У нас в 90-е годы на образовательном рынке появилось очень много липового предложения. К юристам, экономистам и менеджерам это относится в первую очередь. Рынок кричал: дайте нам этих специалистов! Тогда бизнес нарождался с нуля, страна строила рыночную инфраструктуру. Но узким местом было наличие людей, которые могут собственно дать это бизнес-образование. Они-то тоже должны были тогда откуда-то взяться. В итоге у нас колоссальное перепроизводство людей, как бы сказать помягче, с неполноценными дипломами, людей, на самом деле не получивших образование. А потом мы говорим: да что ж такое-то, да где же найти юриста?!
Возвращаясь к докладу BСG, надо сказать, что шанс на будущее мы еще сохраняем, но при условии, что начнем заниматься образованием прямо сейчас. Начнем, наконец, формировать «долгий взгляд». Если сейчас мы с вами начнем Россию мерить по сравнительным параметрам и возможностям нашего развития, то выяснится, что страна мы не такая большая, как кажется. По населению — так вообще как Франция и Германия, вместе взятые. Мы несравнимы ни с мощным Китаем, ни с растущими странами Индийского океана. Но есть в России человеческий капитал. И вроде это наша надежда на будущее. А мы с этим будущим справиться в состоянии или нет? Рассчитывать, что автоматом сможем выскочить, уже не получается.
— В исследовании как раз говорится, что в российском обществе отсутствует спрос на знания. Как это произошло ?
— Очень просто. Нужны ли экономике страны знания, зависит от того, с чем страна работает. Россия — это сырьевая экономика, которая живет и торгует на мировых рынках отнюдь не сложными изделиями (пожалуй, исключение — это атомные реакторы). Если бы были у нас сложные изделия и мы бы ими торговали, то можно было нам с вами справедливо восклицать: а где же наши умники, где же наше восьмое поколение телефона, или самолета, или компьютера?! Нету этого. Мы про нефть, газ, металлы, лес и т.д. И спрос на специалистов у нас идет по другим категориям. На тех, кто не головой, а руками работает, на людей физического труда или тех, кто их контролирует. Другой вопрос, что страна у нас постоянно производит и огромное количество людей, которые хотят и могут работать головой, умных, талантливых людей. При этом с советского времени мы находимся в положении, когда этот человеческий капитал превосходит возможности экономики нашей страны. Не впитывается на родной земле. Мы и сейчас, и в позднесоветское время накапливали этот капитал умных и образованных людей и выбрасывали их наружу, выталкивали за рубеж.
— Все-таки кажется, Александр Александрович, что Россия уже не в состоянии производить, как вы говорите, качественный человеческий капитал.
— Мы с вами упомянули выше о спросе на знания в нашей экономике. Теперь давайте скажем о предложении. Если мы будем настраивать предложения на спрос, то мы будем делать профессии вчерашнего дня. Я нахожусь в ожесточенной борьбе с прагматическими инициативами, мол, давайте сделаем профессиональные стандарты и будем по ним готовить людей в вузах. Я на это отвечаю: извините, да работодатели обычно не знают о таких профессиях, которые завтра понадобятся. Они сейчас назаказывают бухгалтеров образца 60-х годов, и мы будем как дураки их готовить? Да нет конечно! Если говорить о цифровой экономике, то у новых профессий еще даже и названий нет. Как, скажем, назвать людей, которые занимаются анализом «больших данных»? Бигдатист? Бигдатчик? В этой сфере, кстати, наши специалисты сейчас особенно ценятся. Или вот Нобелевская премия в 2017 году по экономике присуждена снова за поведенческую экономику, Ричард Талер получил. Это кто? Психоэкономист, эконопсихолог? Это к вопросу о том, что нельзя ориентироваться на спрос при выработке образовательных стандартов. Он идет от примитивной экономики и прошлого исторического периода.
Помимо новых компетенций огромную роль играет и то, как люди умеют взаимодействовать друг с другом, способны ли они работать не в иерархиях, а в сетях, коллективах самостоятельных игроков. Ведь что главное в «цифровой экономике»? Не машины, а человек. Аддитивные технологии, тот же, условно говоря, 3D-принтер, уже меняют производственную парадигму. Появились возможности индивидуализированного, кастомизированного изготовления сложных продуктов с теми же издержками, что имеются сейчас при массовом производстве. На этом этапе меняется вся привычная экономика. Возьмем Кремниевую долину. Собралась команда, что-то такое изобрела и продала свой стартап большой компании. Почему? Потому что экономика начинается там, где новая идея соединяется с масштабированием. Так было. А уже скоро малый бизнес, не продаваясь никому, сможет через платформенные решения* сам заходить на глобальные рынки. И такая ситуация совершенно меняет требования к человеческому капиталу. Человек становится важнее денег. Важнее! Начинают работать сравнительно небольшие группы людей, расстояния между ними становятся несущественными, а взаимодействия — не иерархическими с пятью уровнями начальников, а сетевыми. Почему Uber растет на 40% в год, а не на 3% — как компании, которые внедряют новые информационные технологии? А потому, что он ликвидировал целую группу издержек, связанную с управленческой надстройкой. Это все оказалось ненужным, лишним, мешающим. То же самое скажем про другие платформы, про мирового лидера интернет-торговли «Алибабу». У них принципиально другие механизмы управления, а значит, другие способы взаимодействия людей. Теперь вопрос: а в России мы делаем человеческий капитал, который к этому готов? Пока ответ — нет, не готов. Но мы этим уже занимаемся — у нас на экономическом факультете МГУ будут готовить менеджеров для цифровой промышленности.
— Вы часто говорите в своих выступлениях, что россияне больше, чем жители какой-либо другой страны, опасаются неопределенности, перемен и в целом ситуации риска. Это видно даже на примере венчурного инвестирования: в России объемы венчурного рынка в 26 раз меньше, чем в Израиле, который в 20 раз меньше России.
— Да, действительно, Россия — мировой лидер по избеганию неопределенности. У нас огромный страх перед будущим, живем по принципу «как бы дальше не было хуже». Давно говорю, что наиболее распространенная религия в России — не православие, ислам, иудаизм и буддизм, а пессимизм. У нас успешен тот эксперт, кто говорит «будет хуже». Всюду слышно: не меняйте этого человека, иначе придут другие и все развалят, еще больше разворуют, не трогайте систему, а то все посыплется, не открывайте эту дверь — за ней может быть что-то страшное! Вот по таким страхам Россия занимает первое место в мире. Конечно, у этого есть основания, у нас был неудачный опыт реформ. В 90-е у нас любили повторять китайское проклятие: чтоб ты жил в эпоху перемен. В общественном сознании укрепилась мысль, что перемены всегда к худшему, надо держаться того, что имеешь. Но я уверен, что причина такого отношения у нас совсем не генетическая. Это у нас от многочисленных ушибов исторического опыта.
— Но ушибы лечатся?
— Да, и страх перед будущим можно снять. И снимается он возможностью каждого конкретного человека по-разному это будущее для себя проектировать. Когда вы никак не влияете на свое будущее, то, конечно, вы его боитесь. Мало ли кто и что с вашим будущим может сделать! А когда вы сами его творите, то уходит и страх. Решения здесь могут быть неожиданными. Например, селективные налоги. Дайте человеку управлять своим рублем и выбирать, куда направлять некую часть своих налогов. Так вы сможете влиять на свое будущее, это ваше индивидуальное голосование, результат которого вы сможете видеть. Именно так страх перед будущим и снимается, более того, изменится и отношение человека к тому, чем занимается его государство. Это что у нас, сакральная сущность, которая решает вопросы дальних галактик, или все же некоторая система общественных благ, которую мы заказываем и говорим: знаете, а хорошо было бы иметь еще то и то?
— Ваша мысль, я знаю, состоит в том, что ценности нации меняют селективные налоги, накопительная пенсия и образование. Но проблема в том, что ничего из этого у нас не работает. Полный откат по всем направлениям.
— Подождите. Откат у нас только по одному направлению — по обязательной накопительной пенсионной системе. Как говорил Талейран, это хуже, чем преступление, — это ошибка. Для того чтобы латать нынешнюю пенсионную систему, у нас пожертвовали будущей. Срубили яблоню, потому что яблочко очень хотелось достать. Катастрофическая ошибка. По селективным налогам мы даже и не начинали никакого движения, но обсуждение вопроса идет уже вполне серьезно. А что насчет образования — можно ли говорить, что здесь у нас отступление? Да как вам сказать — где-то да, где-то нет. Иногда мы не можем отличить поражения от победы. Для меня до сих пор стоит вопрос: ЕГЭ — это поражение или победа? С одной стороны, этот институт дал всем жителям страны национальный доступ к образованию, а с другой — уничтожил роль школы как «подготовителя» к жизни. И школа теперь готовит не к жизни, а к ЕГЭ. Появился такой вид людей-кросcвордистов, которые умеют отвечать на вопросы, но не знают, откуда они берутся.
— Вопрос о президентских выборах. В одном из выступлений вы сказали, что «чрезвычайно важна смена политического цикла в стране, поскольку поменяются министры и придут люди, у которых будет другое представление». Вы действительно ожидаете серьезных перемен от выборов?
— Давайте уточним, что я действительно сказал. Я сказал не про президента, а про то, что в стране, где отсутствуют институты или они очень слабо развиты, страшно важную роль начинают играть персоналии. Кто сидит в кресле премьера, прокурора и т.д. Сейчас у этих людей может случиться пересменка. Поэтому да, конечно, большая интрига — это не кто победит на президентских выборах, а кто окажется в разных управленческих креслах в мае 2018 года. И даже небольшая встряска может сыграть свою позитивную роль. Если у вас не работает система правил, то у вас всюду работают личные качества. Сменился человек, пришел новый — считайте, что сменилась политика, система, концепция и т.д.
— Даже если самый главный человек остался на месте?
— Да, как раз об этом и говорю. А в целом ситуация наша такова, что мы, как я давно формулирую, находимся в когнитивном диссонансе. Мы считаем себя великими и большими, ведем себя как великие и большие, меняем мировой порядок, проводим собственную жесткую внешнюю политику. Но при этом имеем только 3% от мирового ВВП. СССР имел 10%, вместе с союзниками — под 20%. Чувствуете разницу? Мускулатура не соответствует возможностям организма. Мы в ситуации разрыва, когда приходится выбирать: либо нам амбиции приводить в соответствие с амуницией, либо надо что-то делать с амуницией. А для этого нужна хорошая экономика…
Мне кажется, что стратегическая ставка должна быть сделана на «страну умных» людей, на развитие экономики на базе человеческого капитала. И начинать надо сейчас, с 2018 года. Для каждого губернатора, министра, для правительства в целом коллективная задача должна быть в том, чтобы каждый год наращивался спрос на умных и талантливых людей. Как сделать, чтобы они оставались в стране? Где-то административные барьеры надо устранить, где-то нужно идти и на политические изменения, а где-то создавать другую культурную среду и пространство в городах. И каждый год смотреть, как меняется присутствие талантливых людей в стране. Мы 150 лет, со времен Дмитрия Ивановича Менделеева, отдаем людей. Еще тогда — это Мечников, Зворыкин, сейчас — Павел Дуров и т.д. Да, за 5 лет мы, конечно, не увеличим вдвое свое присутствие в мировой экономике, но хотя бы нужно попробовать свернуть с дороги, которая, похоже, ни к чему хорошему не ведет, на ту, где есть возможность небыстрого, но важного результата. Задачка имеет миллион разных решений. Вот, скажем, в наш оборонно-промышленный комплекс закачивают огромные деньги, ну так давайте делать конверсию! Гражданские технологии, что бы нам ни рассказывали, нередко рождаются из военных. Интернет — это была военная технология, смартфон — военная технология. Израильский инновационный сектор в значительной степени существует как приложение к ВПК. В России мы 10 лет интенсивно инвестируем в военный сектор, ну так давайте мы достанем оттуда что-то гражданское! Да, это потребует институциональных преобразований, так как предприятие ВПК и компания, работающая на мировой рынок, — они разной породы.
— Звучит как фантастика. Кто, и главное — зачем это все будет делать-то?
— У нас варианты: ждать, пока все не рухнет нам на голову, или попытаться что-то сделать. История про селективные налоги — она про то, как средний класс мог бы нестандартным образом поучаствовать в развитии нации. Но помимо среднего класса есть и бюрократия, и есть крупный капитал. У них впереди ситуация очень тяжелая, учитывая новый санкционный пакет. Фактически они потеряли то, что имеют мировые элиты. Объясню. Элиты предпочитают не создавать институты у себя, а пользоваться тем, что уже есть на этой планете. Образование для детей в Англии, техническое регулирование в Германии, финансовая система в Швейцарии. Чего у себя-то делать — в Гвинее или Мексике — когда есть уже готовое. Так рассуждают все элиты. Российские элиты сейчас попадают в положение, когда они не смогут пользоваться западными институтами из-за санкций, и у них возникает серьезный мотив. Ребята теперь будут ходить в те же общественные сортиры, что и мы. Поэтому может возникнуть желание что-то поправить в этих сортирах. Будет нелегко, но мотивация есть разная у людей, которые не хотят или не могут уехать. Всегда ведь у нас была дилемма, прекрасно выраженная двумя культовыми личностями. Виктор Некрасов: «Лучше подохнуть от тоски по родине, чем от злобы на родных просторах». И Владимир Высоцкий с его «не волнуйтесь, я не уехал, и не надейтесь — я не уеду!». Те, кто живет по второй максиме, будут искать возможности воздействовать на будущее. Так что думайте, думайте, о волки!**
*Платформенные решения, или «уберизация экономики», — использование интернет-площадок для проведения прямых сделок между клиентами и производителями, поставщиками услуг. В более широком варианте толкования — использование для работы компаний (клиентов) внешних платформ и экосистем, не находящихся в их собственности и не контролируемых ими. Речь может идти о логистике и транспорте, съеме жилья и создании рекламы, хранении, сборе и обработке данных, ведении торговли и закупок, маркетинговых вычислениях, бизнес-аналитике, производстве промышленных и развлекательных продуктов.
Использование платформенных решений радикально снижает затраты бизнеса, давая возможность малым и средним компаниям конкурировать с традиционными корпорациями и даже, объединившись в рамках платформ, вытеснять их с рынка.
Крупнейшие компании, представляющие платформенные решения, — AirBnB, Amazon, Alibaba, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Uber. По оценкам консалтинговой PwC, к 2025 году объем рынка платформенных решений составит $335 миллиардов.
**Перефразированная цитата из Редьярда Киплинга, «Маугли».
Источник: Павел Каныгин, Новая газета